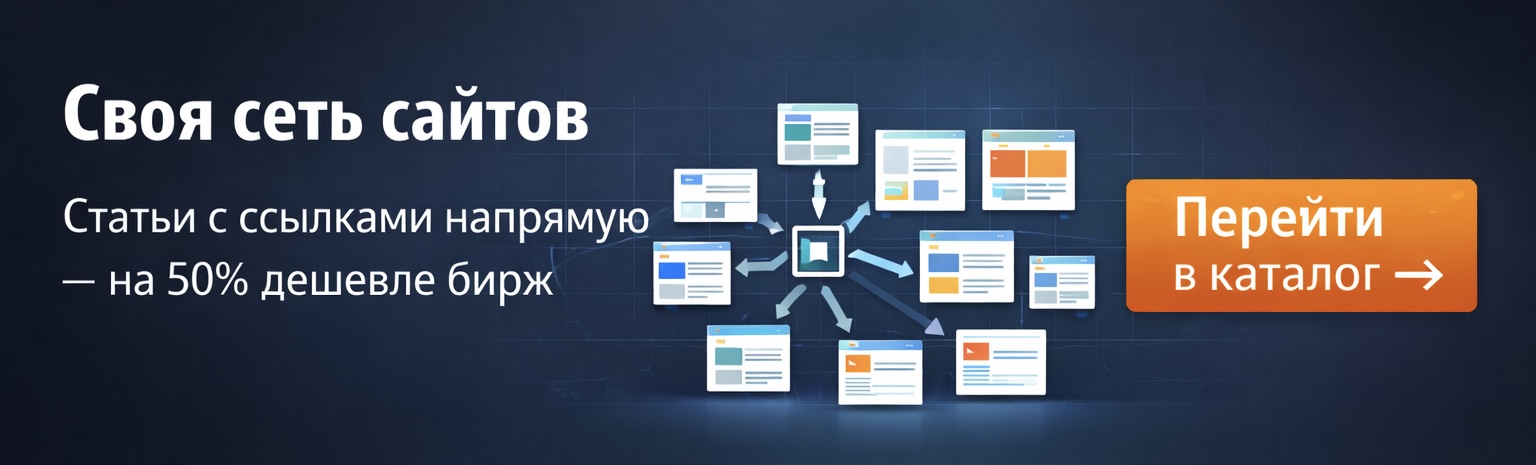Каждый апрель я выхожу к затопленным лугам ещё в рассветной дымке. Вода пахнет молодой тиной, слышится тёплый стрёкот коровок-водомерок. Дно там мягкое, «муляка»—тонкий слой ила, в котором скрыта прошлогодняя осока. Как только температура поднимается до двенадцати–тринадцати градусов, сазан переходит в брачный строй: плавники темнеют, бок серебрит крупная пупырчатая сыпь—сигнал, что икромёт близок.

Водная сцена
Я наблюдаю за течением сверху, стоя на паводковых коряжинах. Поток уже не тащит льдину, но ещё несёт лёгкую мурачку—распустившийся ил. На мелководье глубиной по колено слышен глухой барабанный удар хвостов. Здесь в ходу «пазухи реки»—затишные заливы между мысами. Туда устремляются самки-гиганты, каждая с грузом до полутора миллионов икринок. Самцы выбиваются в спутники, образуя «кортеж»—плотное облако бурлящих тел. Лопухи кубышки шуршат, будто кто-то трёт шершавую кожу о пергамент.
Гормональный всплеск
Внутри рыбы работают гонодотропины—гормоны, запускающие финальный этап созревания половых продуктов. Жировая прослойка сгорает как порох, высвобождая энергию для марафона. Самка идёт ближе к кромке камыша, где стебли служат инкубатором. При трении о жёсткую растительность икра моментально обволакивается клеящей муциново-гликопротеиновой плёнкой—«клейником». Это слово редко звучит за столом рыболовов, а зря: клейник спасает игру от смыва током.
После оплодотворения рыбы словно обессилены. Я называю эту фазу «тишина в полводы». Стаи останавливаются под завалом кувшинок, на глубине чуть ниже метра, и замирают, покачиваясь, будто гарпуном пригвозжены. В это время даже щасщука-сорога не рискует цеплять их: защитный гормон кортизон делает мясо горьковатым, хищница чувствует вкус ещё на подходе.
Поведение рыболова
В период запрета я ограничиваюсь наблюдением и сбором данных. Ставлю стационарный термограф, замеряю уровень растворённого кислорода, считаю число «всплесков-сигналов»—коротких хлопков хвоста о поверхность. Шкала проста: пик активности—до 90 хлопков за десять минут. Как только цифра падает вдвое, процесс окончен. Через трое суток мальки-личинки, именуемые «губарик», переходят на вертикальное плавание, всплывают за глотком воздуха—формируют воздушный пузырь. В это мгновение камыш дрожит, будто под порывом невидимого ветра.
Плюсовая температура держится всю ночь, вода убывает, и на лугу остаются крошечные лужицы. Я аккуратно переношу ведром застрявших губариков к фарватеру, иначе утреннее солнце сварить их быстрее, чем чайник на костре. Одна такая процедура ощутимее любого запрета: выживаемость выводка повышается до девяноста процентов—проверено личным журналом наблюдений.
Дальнейшая хроника
Сазан, отыграв свою пьесу, уходит в русло. Там он набирает массу нападении моллюсков-дрейссены и первых рачков-гаммарусов. К августу рыба снова принимает привычный режим, но в памяти остаётся весенний танец, равный древнему ритуалу костров и барабанов. Без этого действа река выглядела бы глухой, как ночь без кузнечиков.
Сидя на берегу, я складываю снасти и слушаю, как редкие пузырьки поднимаются со дна. В них шёпот: «Жизнь уже пошла по новому кругу». Я улыбаюсь—и ухожу тихо, чтобы не спугнуть следующий рассвет.

 Антон Владимирович
Антон Владимирович