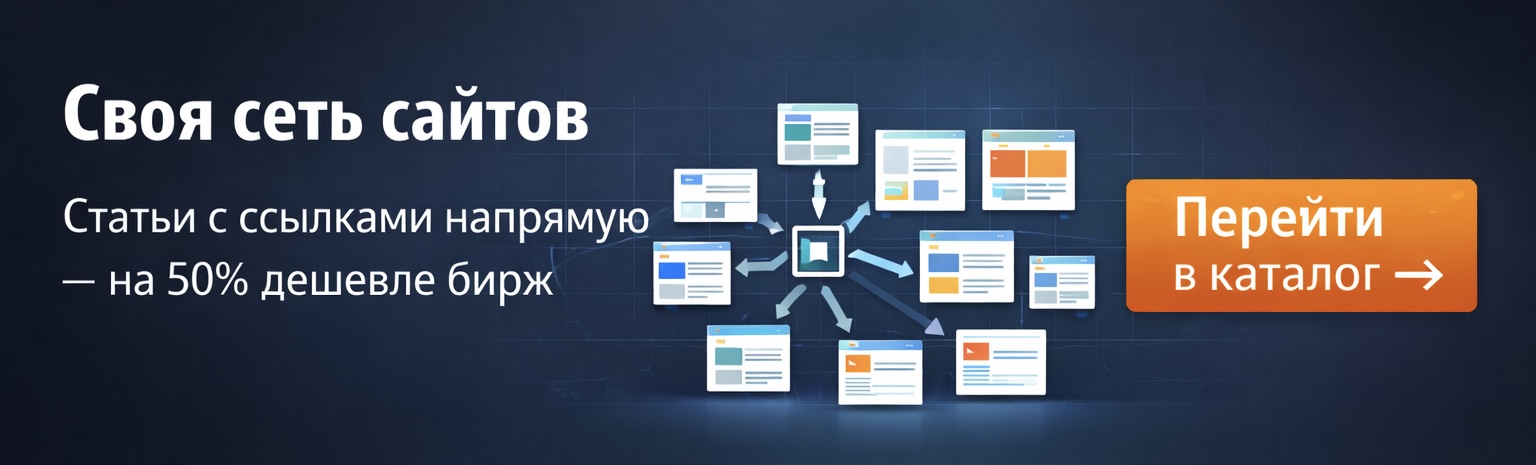Я вырос между песчаной косой и зеркальной гладью протоки. Утро начиналось с аромата берестяных углей, вечер заканчивался мерцанием поплавков. Позднее понял: леска связывает два водоёма — внешний и внутренний. Одним концом она цепляется за карася, другим — за сомнения внутри головы. Каждый выход к воде помогает подтянуть нити, не порвав их.

Подготовка амуниции напоминает настройку камертона. Флюорокарбоновый поводок отзванивает чистоту намерений, крючок — остроту внимания. Вешаю вертлюг «баррель» №10, словно шепчу молитву. Никакой суеты: кивок дрожит от легчайшего ветра, значит, пора обнуляться. На столе — мотыль, мормыш (личинка ручейника) и куркуш (засолённая потрошёная килька, приманка вольных поморов).
Голос воды
Наблюдение важнее заброса. Я сижу на таёжном берегу, считываю рябь как сеизмограф: *чёлночная* волна от липких порывов, *чешуйчатая* — знак поднимающейся уклейки. Чайка бросает «каплю» — одну белую перьевую пластинку, это индикатор, что подводный валун держит стайку пескаря. В тени тальника (низкорослой ивы) ставлю маркер — камышовую стрелу. Пространство разделяется: слева течёт Ахута, справа — поток мыслей, посередине я — их костыль.
Палец ложится на шпулю катушки, будто врач берёт пульс. Шёлк плетёного шнура скользит сквозь ролик лесоукладывателя и вслушивается в сердце омутной ямы. В бухте нет пассивных участков: даже ил разговаривает, подрагивая пузырями метана. На эти вибрации реагирует тело: диафрагма сбрасывает стресс, мозг перестаёт штамповать рутину. Становлюсь прозрачным, как жилковатый плавник судака под лунным фонарём.
Время натянутой тетивы
Поклёвка всегда уходит вперёд мысли. Перед ощутимым ударом в бланк живёт доля секунды, где мозг не успевает вставить комментарий. Психологи называют этот пробел «зоной чистого восприятия». Мы, рыболовы, называем его просто — *поцелуй тишины*. Хищник втягивает приманку, вершинка замирает, мир зависает. В тот миг диагностируется собственная правдивость: нет уклончивых фраз, остаётся рефлекторный подсечный взмах. Делать нечего, кроме как быть.
Костяной крючок входит в пасть щуки, а в спину вонзается радость. Осознание тянет воспрять, но я держу равновесие: гашу свечку рыбы, веду её галсами, будто финист-яхтсмен. Судачий «горбыль» упрямится, посылает резкую стоячую волну прямо в локоть. Суставы получают электростимуляцию без спортзала. Вечерний лимфодренаж от жереха — лучший физиотерапевт.
Возврат к тишине
Уха из свежего ерша не терпит кипения, как созерцатель не терпит лишних слов. Сижу у кострища, шепчу заклинание из травяных ароматов: сушёный дягиль, кориандр, три горошины перца. Трофей отдан течению, беру только чувство завершённости. Гладь закрывается лунной «каракулем» — пушистой рябью, похожей на старую каракулевую шапку. В таких пятнах отражается лицо того, кто шагнул чуть глубже обычного наблюдателя.
Философы изучают бытие через трактаты. Я выуживаю его щучьей блесной. Каждый заброс — мантра, каждый сход — шутка, каждый поднятый сиг — подмигивание отчасти вселенной, которая скрывается под слоем ряски. Чем скромнее садок, тем громче внутренний улов. Вода учит экономии жестов и показывает, насколько громоздки лишние мысли. Когда на берег выходит утренняя тишина, слышноу собственный внутренний ток — ровный, как шелест катушки Ryobi Zauber 4000 после хорошей смазки.
Рыболовство не заменяет исповедь и не выступает в роли спортзала. Оно держит человека в неустойчивом балансе между стихией и терпением. Каждая ночь на песке подтверждает: достаточно открыть ладонь, чтобы течение заполнило её отражениями звёзд. Пока тянется тонкая леска бытия, я буду здесь — слитый с туманом, рюкзак пахнет смолой, сердце дышит волной.

 Антон Владимирович
Антон Владимирович