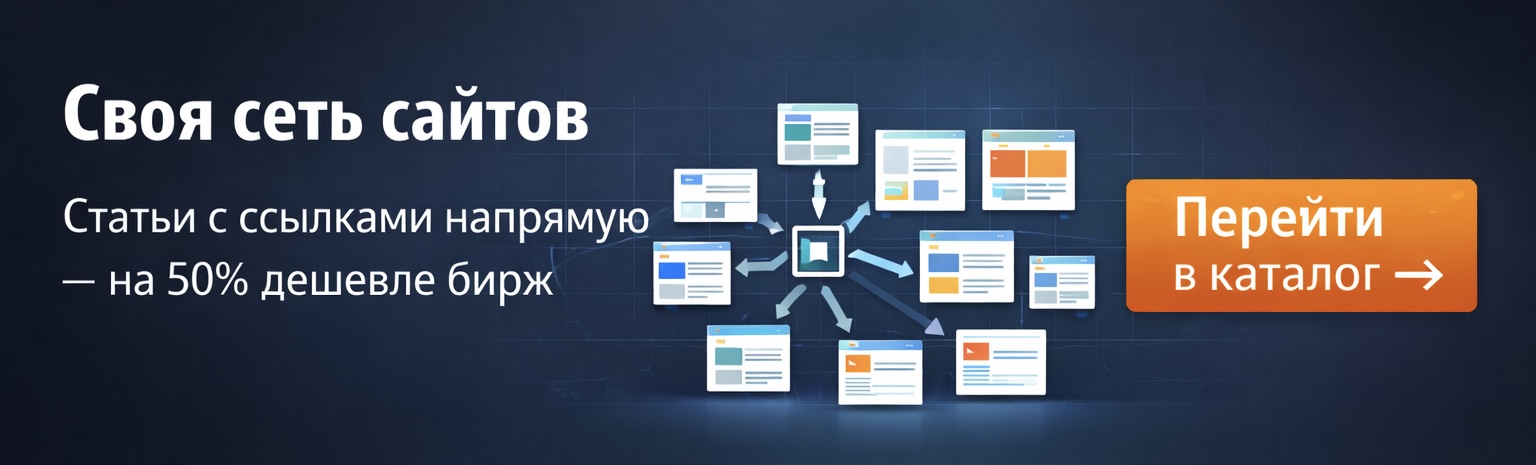Утренний туман лёгкой вуалью прикрыл мелководье, где вода пахнет подзолистым глеем. Я ставлю ступни на обрывистый, но упругий торфяной берег, слушаю скрип старых свай. Под поверхностью, словно стеклянный нож, скользит щучья морда — признак, что здесь работает обратное течение, созданное разрушенной плотиной.

Омут прячется за языком мели. Глубина прыгает от колена до четырёх метров, такая аномалия питается верховыми ключами. Рыба будто сбита с толку: верховодка пасётся в самом провале, тогда как голавль постоит по кромке воды, где струя хлещет вдоль стеблей рдеста.
Водяной лабиринт
Часть русла напоминает коридор из поваленных ив. Бобры организовали целый «талус» — термин геоморфологов для груды древесных обломков. Стволы преграждают путь воблеру, зато тонкий джиг-риг проходит без лишнего контакта. Я применяю вольфрамовую «Чёрную маслину» весом 4 г, она ложится в прогал между бревен, словно ядро старой мортиры, и заставляет судака подниматься с дна.
Шум побега утки поднимает в воздух зимородка. Птица служит сигнальным буйком: если она пикирует к воде, значит мелочь сбилась в плотную «толкушу», и хищник уже поблизости. На таких сигналах строится моя импровизированная эхинометрия — определение глубины по поведению живых индикаторов.
Дивное свойство омута — температурная лестница. В двух метрах от берега датчик показывает 12 °C, но через шаг цифры прыгают до шестнадцати. Ключ подпитывает яму мягкой артезианской водой. На стыке слоёв держится хариус-пилот: серебристый с пурпурным напылением, по происхождению — явно беглец из верховий. Под него я вяжу микроджиг с мушиным хвосттом из волоса казарки. Первую поклёвку сопровождает гул в ладонях, будто старый генератор снова ожил в недрах мельничной плотины.
Тропы зимородка
К полудню струя обнажает скрытую «тему» — полость под берегом, образованную глинистой линзой. Бросаю приманку вдоль кромки, позволяя свинцовому сердечнику «проползти» по стенке. Хариус отвечает ритмичными толчками, словно капельхорд на контрабасе. Снимаю рыбу без подсачека: подныриваю ладонью под грудные плавники и вывожу на влажный мох. Чешуя играет графитом, звериная красота награждает тишину неожиданной торжественностью.
Ближе к трём часам дня омут превращается в зеркальный концертный зал. Я меняю снасть на кастинговый комплект с мультипликатором и крэнком «Furioso 38». Приманка ведёт себя, как мародёр: тарабанит о камни, поднимает глинистый шлейф. Спустя три проводки получаю удар, схожий с кувалдой кузнеца. Щука тянет в коряги, липкая слюна вперемешку с тиной брызгает на пальцы. Я вынуждаю хищницу выйти в чистую воду коротким качком удилища — приём старых сельских спиннингистов, они зовут его «кивок с свалом».
Серебро сумерек
Солнце клонится, и омут меняет голос. Верхняя плёнка воды мутнеет, будто запотевшее стекло. Время для жереха-расхитителя. Стадо малька жмётся к затону, волна бежит, будто кто-то швырнул плоскую гальку. Я пускаю вдоль струи кастмастер 18 г, делаю сброс лески, позволяя блесне рвануть к горизонту, и сразу же — резкая подмотка. Жерех бьёт, тянет, уходит свечой. Фрикцион шепчет раскалённой бронзой, пятки врезаются в влажную дернину. Рыба капитулирует только после второго ухода, оголяя бока цвета расплавленногомного мельхиора.
Ночь приносит запах костра. Я подвешиваю котелок над углями, бросаю в воду щучий хребет, ветку чабреца и горсть толчёного тмина. Уха набирает терпкость, пока свистит комар-пискун. Трофеи лежат на мокрой траве, бутылка родниковой воды стынет в посаде. Маленькая река снова шепчет тайны — до очередной вылазки, где свежий омут раскроет новую гримуарную страницу.

 Антон Владимирович
Антон Владимирович