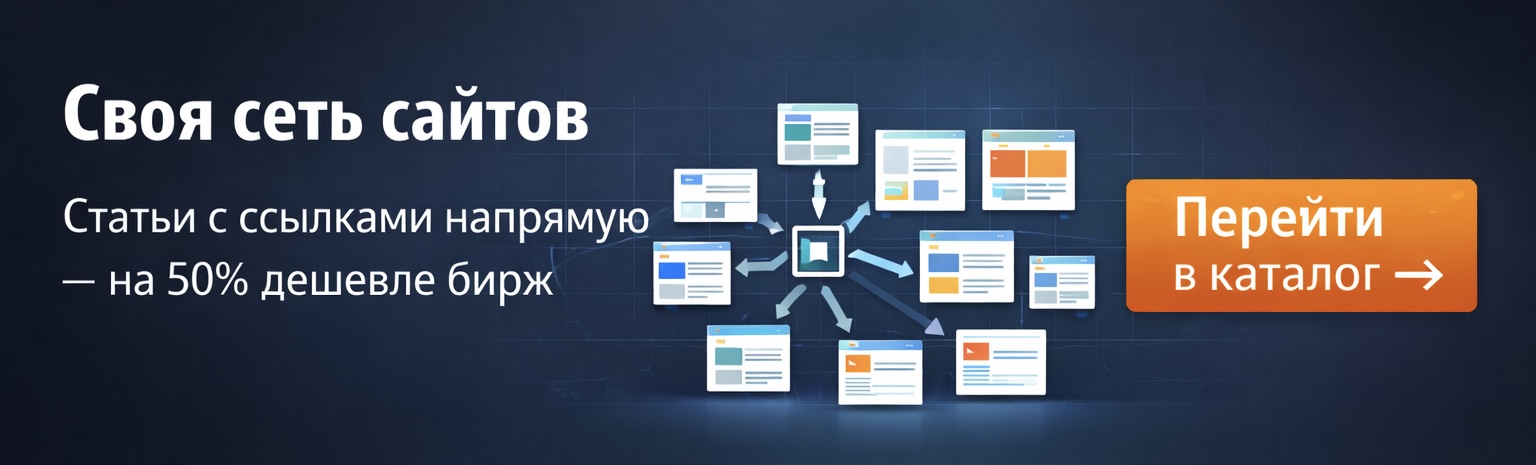Сквозь утренний пар реки Пинг я вхожу в город, похожий на раскрытый лотос. Башенки ступ словно поплавки, отражённые в воде, слегка подрагивают при каждом движении течения. Между ними — испытанные тропами охотничьи угодья: смешанные тиковые рощи у подножия Дой Сутеп и криволесье, где дым фонарей ведёт к ночному базару.

Дыхание Пинга
На изгибах Пинга вода сойотрофная — бедная минералами, но прозрачная, будто линза окуляра. В такой среде крупный махсир предпочитает стоять под нависшими корнями бамбука. Забрасываю стример-“крылан” из волосяного покрова сероу, и каскадная атака рыбины напоминает удар рогатой гауры по щиту капкана. К локальному жару быстро привыкаешь: над поверхностью тянет только из цветочной пыльцы, а под ней прохлада, где финикийская медь блёсны играет солнечным зайчиком.
Трофейные воды
После полудня ухожу к водохранилищу Мае-Нгат. На эхолоте — ступенчатый профиль, заросший волнообразными ложбинами. Вода там олигохалиновая, проводимость ниже, чем в большинстве северных таиландских водоёмов, зато кислород щедр. Змееголов поднимается к поверхности, втягивает воздух, издавая звук, похожий на щёлк кремнёвого замка. С лодки применяю шарнирный “снаряд-надуван”, воблер с полой капсулой: удар хищника беспощаден, хлыст графитового бланка поёт контрапунктом к цикадному оркестру.
Лес и храмы
К сумеркам пересекаю населённые кварталы, где запах жасмина перемешивается с дымом подслащённого табака. В храме Ват Лок Моли монахи кормят карасей, и каждый клочок воды кипит чаёвкой — смесь бобовой муки и риса. Отбрасываю спиннинг, беру подслеповатый арбалет “каракой” для ночной охоты на древесного крылокуна: мелкий сумеречный зверь, ценимый за шкурку, живущую жизнью живой лианы. Стражники храма улыбаются: у них к охотнику отношение уважительное, ведь традиция ловли диких зайцев “нгу мэо” и сейчас жива в горах Чиангдао.
Шкурки пахнут терпентином, а вяленый сом плавает в тамариндовом бульоне — так встречает меня вечерняя кухня Чиангмая. Люблю торговаться за сухари “камтонг” для прикормки: ферментированный рис даёт кислоту, способную разбудить даже сонного усача. Встречаю старого наставника — хмурую ткачиху Нанг Плой, что держит сеть “паям”: плетение ромбом 8×8 мм, рассчитанное на малька. Она напоминает: «Замешивай прикорм в час “кханг-кхео”, когда луна станет зеленей утреннего чая». Примета работает: карась-пещерник, окрашенный как броня древнего доспеха, ложится в садок.
В горах за городом
На рассвете двигаюсь к хребту Дой Интанон. Высота даёт иной воздух: эвтрофные ручьи, насыщенные бурой взвесью, скрывают форель с мраморным узором. Применяю «карнизный заброс»: короткий одноручник уходит под арку лиан, мормышка “ламсинг” сползает с листа, будто сбитая мотылька. Выхватываю рыбу, и полоска пигмента напоминает дорожную карту древних торговых караванов.
Город за спиной шумит молитвами, но звук гонга мягче, чем всплеск хвоста трофейного сома. Чиангмай даёт одновременно шелест монахов-калачиков и стук катушечной трещотки. Здесь мистика храмовых глицерин соседствует с практикой точного броска, а аромат сандала вплетается в запах прокопчённого ружейного масла. Такая смесь делает северную столицу по-настоящему притягательной для того, кто ищет гармонию между культурой и добычей.
Храню в журнале данных маршруты “рутид ла” — древнего пути солевых носильщиков, сегодня — тропы охотников на джунглевых фазанов. Там, где раньше звучали колокольчики слонов, нынче звенит фрикцион. Однако дух предков ощущается в каждом шорохе. Приходишь к костру, снимаешь подсумок, сушишь порох, а в тишине леса слышится невидимый хор воронов, будто город продолжает беседу с охотником даже через горную гряду.
Под занавес путешествия я возвращаюсь к реке Пинг. Вода темнеет, словно отливка из патинированной бронзы. Выпускаю махсира, пойманного днём: его броня пульсирует серебром и золотом. Рыба уходит к корням бамбука, а за спиной расцветает салют фонариков “кхом-лой”. Чиангмай прощается деликатно, словно опытный лесной проводник, — коротким кивком и шорохом крыльев сотни бумажных птиц.

 Антон Владимирович
Антон Владимирович